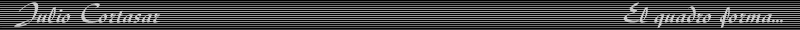|
|
 |
| |
Публикации в прессе и интернете, посвящённые творчеству Хулио Кортасара.
|
|
Дипломная работа на звание бакалавра филологических наук
Ивановой О.В.
МПГУ им. Ленина
Филологический факультет
4 курс
написана в 2003 году, все права защишены, любое использование материалов работы только с
разрешения автора
Все отзывы и предложения отправляйте автору: ola@pro-obraz.ru
Вступление
1. Выбор темы.
С одной стороны, выбор темы продиктован возрастающим в последние десятилетия вниманием к отечественной латиноамериканистике, а также интересом литературоведов и историков литературы к проблеме латиноамериканского творческого сознания как такового. С
конца 70-х годов ХХ века исследователи ИМЛИ им. Горького, создавая многотомный труд «История литератур Латинской Америки», вырабатывали культурологический подход к материалу, предполагающий исследование основных параметров латиноамериканской культуры, а
также выявление специфики ее художественного языка. В начале 90-х годов в ряде дискуссий и публикаций латиноамериканисты ИМЛИ определили основное направление своей деятельности – изучение и описание художественного кода латиноамериканской культуры,
явленного в сумме идеологем, образов и мифомотивов. Специфика художественного кода латиноамериканской литературы, обусловившая особенности ее типологии, объясняется двумя факторами:
1. Отсутствием сложившейся фольклорной традиции, как в европейской и восточной литературах. Латиноамериканская литература не могла развиваться ни на основе фольклора индейцев – в силу действия языкового барьера, ни на основе форм испанского
фольклора – в силу «инаковости» отраженной в нем действительности и испанского сознания. Поэтому первые несколько веков развитие латиноамериканской литературы обходилось без фольклора, а роль «эпического субстрата» для нее выполняли хроники Конкисты, в
которых заложились базовые основы сознания латиноамериканцев.
2. Связью с западноевропейской литературной традицией. Латиноамериканская литература формировалась, ориентируясь на опыт испанской литературы и других европейских литератур, переиначивая его, вырабатывая свой собственный язык. Художественный код
латиноамериканской литературы – это инверсия, парафраз, травестирование, переинтерпретация европейской традиции. Таким образом, связь с ней может толковать как связь полемическую.
Исследования латиноамериканского художественного образа мира, истории литературы Латинской Америки и специфики ее формирования во многом помогли раскрыть особенности художественного сознания в романе Х. Кортасара «Игра в классики» (1963).
С другой стороны, выбор темы дипломной работы обусловлен растущим увлечением теорией постмодернизма, вызвавшей множество разногласий и споров, как среди философов, так и среди литературоведов. Постмодернизм интересен в первую очередь как
мировоззрение, свидетелями формирования и развития которого мы являемся. Хотя на этот счет имеются различные мнения, в том числе и те, что отстаивают исчерпанность, завершенность на сегодняшний день эпохи Постмодерн и начало новой эры в литературе – эры
постпост. Однако наше исследование посвящено роману, созданному в 1963 году, когда поставангардистские эксперименты начали приобретать все большую популярность во всех видах искусства. Постмодернизм выступал – и выступает по сей день – как характеристика
определенного менталитета, специфического способа мировосприятия, мироощущения и оценки, как познавательных возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире. Постмодернизм прошел долгую фазу латентного формообразования, датирующуюся
приблизительно с конца второй мировой войны (точнее, с «Поминок по Финнегану» Джойса (1939)1), и лишь с начала 1980-х был осознан как общеэстетический феномен западной культуры и теоретически отрефлексирован
как специфическое явление философии, эстетики и литературной критики. А сегодня, в XXI веке, у нас появилась возможность говорить о постмодернизме в достаточной степени дистанцированно, ибо если он и не сошел с исторической сцены, то, по крайней
мере, претерпел значительные изменения, дающие нам право говорить о новом витке в его развитии.
2. Актуальность работы
XX век стал периодом зрелости латиноамериканской литературы. На рубеже веков любая национальная культура – и культура Латинской Америки не стала исключением – испытывает потребность в самоанализе, в рефлексии постфактум, о чем свидетельствует
растущий интерес к этой проблематике читателей.
Насколько это известно, в нашем литературоведении до сих пор не предпринималась попытка описания феномена постмодернистского сознания, применительно к творчеству латиноамериканского постмодерниста Хулио Кортасара (1914-1984), его программного
произведения «Игра в классики» (1963). В свете растущей в России популярности латиноамериканской литературы вообще и Х. Кортасара – в частности, эта попытка рассмотрения его творчества на фоне еще не потерявших привлекательности идей постмодернизма
кажется своевременной.
3. Композиция работы
Поскольку в самой теме работы обозначено два смысловых стержня, вокруг которых и будет в дальнейшем развиваться настоящее исследование, то основная часть работы поделена соответственно на две неравные главы, первая из которых посвящена «ситуации
постмодернизма» в общих чертах, а вторая использованию постмодернистских приемов в романе Х. Кортасара «Игра в классики». Первая глава включает предпосылки появления постмодернизма и значение постструктурализма; историю формирования и развития
постмодернизма; его связь с модернизмом и постмодерном; а также вкратце дает представление о теории постмодернизма. Необходимость первой главы, посвященной обзору основных этапов развития постмодернизма и его сущности, продиктована тем, что теория этого
литературно-философского феномена еще не сформировалась окончательно, поэтому многие ее аспекты требуют пояснения и исторической справки. Первая глава представляется необходимой для более глубокого понимания второй, которая состоит из семи параграфов,
представляющих основные признаки постмодернистского текста на примере текста Х. Кортасара. Признаки следующие:
- Деконструкция (по Деррида) и ее последствия
- Жанровые образования
- «Двойное кодирование»
- Гипертекстовые связи
- Интертекстуальность и ее функции в романе
- Экспрессивная функция
- Апеллятивная функция
- Поэтическая функция
- Функция предсказания
- «Смерть автора» и рождение читателя
- Категория игры
- Языковой строй
- Пастишизация и симультанность
- Словообразование
- Языковые метафоры
- Расширение контекста
Каждый параграф в свою очередь условно поделен на две части: одна из частей дает историко-философско-этико-культурную справку о данном признаке постмодернистского текста, вторая часть разъясняет суть признака на примере из текста, то есть исследует,
где и каким образом автор использует настоящий прием.
Помимо основной части, включающей две главы, в работе есть также вступление и заключение. Заключение представляет собой некий итог работы,
Цель работы.
Цель данной работы – проследить использование Х. Кортасаром приемов постмодернистского текста в романе «Игра в классики», опираясь на теорию и эстетику литературы постмодернизма. Для этого изучить историю становления и развития подобной
литературы, поэтику (форму) и основные философские категории (содержание), составляющие ее основу. Применительно к тексту романа рассмотреть некоторые типичные приемы постмодернистского текста, обращая внимание на их обоснование теоретиками
постмодернизма, а также на особенности их использования в романе.
Постмодернизм: становление и развитие.
К понятию постмодернизма
История человечества – это история смены культурных эпох: древность – средние века – новое время (модерность) - постмодерность2. В предельно широком контексте последняя понимается как «глобальное состояние
цивилизаций последних десятилетий, вся сумма культурных настроений и философских тенденций» [40], связанных с ощущением завершенности целого этапа культурологического развития, изжития современности и вступления в полосу эволюционного кризиса. Согласно
типологии М. Эпштейна [49], постмодерн – это четвертая большая эпоха после древности, средневековья и Нового времени. Постмодерность – это такое состояние культуры, которое приходит на смену Новому времени и отбрасывает в прошлое «модерный» проект, в
основе которого были ценность реалистического знания, индивидуального самосознания и рационального действия. По М. Эпштейну, постмодернизм есть первая стадия эпохи постмодерности, тогда как модернизм стал последней стадией эпохи модерности. Вопрос о
взаимоотношениях постмодернизма и модернизма вызвал особые споры. Согласно одной из точек зрения, постмодернизм – новая фаза в развитии модернизма. Лиотар [30] считает, что это часть модернизма, спрятанная в нем. Деррида, напротив, указывает на их
разницу, поскольку «модернизм отличается стремлением к абсолютной власти, а постмодернизм – это опыт конечности, опыт, в котором находит отражение обреченность всех завоевательных планов» [15]. Понятие «постмодернизм», которое чаще всего используется
применительно к сфере философии, литературы и искусства, служит для обозначения:
- Нового периода в развитии культуры;
- Стиля постклассического научного мышления;
- Нового художественного стиля, характерного для различных видов современного искусства;
- Нового художественного направления в искусстве;
- Художественно-этической системы, сложившейся во второй половине XX века;
- Теоретической рефлексии на эти явления (в философии, эстетике).
В настоящее время термин «постмодернизм» устоялся не окончательно и иногда применяется в эстетике и критике наряду с дублирующими терминами «постструктурализм», «поставангардизм» или «искусство деструкции». Это обусловлено диффузностью и
многогранностью культурного феномена.
Постмодернизм воспринимается сегодня все чаще как характеристика менталитета, специфического мировосприятия, отмеченного в первую очередь так называемой постмодернистской чувствительностью. «Постмодернистская чувствительность» - специфическая форма
мироощущения и соответствующий ей способ теоретической рефлексии. Важным компонентом «постмодернистской чувствительности» является ощущение мира как хаоса, где отсутствуют всякие критерии ценностей и смысловая ориентация. Другим составляющим этого
понятия можно назвать особую «манеру письма», наиболее ярко проявившуюся в литературной критике, но характерную не только для литературоведов, но и для многих современных философов и культурологов. Эту манеру письма иногда называют «метафорической
эссеистикой». Речь идет о феномене «поэтического мышления», то есть использовании художественных методов в сфере гуманитарного научного знания. В оформлении теории «поэтического мышления» важную роль сыграли философско-эстетические представления
восточного происхождения, в первую очередь дзэн буддизма (чань-буддизма) и даосизма. Важное последствие этого уже описанного нами выше явления – высокая степень теоретической саморефлексии, присущая современным писателям постмодернистской ориентации,
выступающим как теоретики собственного творчества. Да и специфика этого искусства такова, что оно просто не может существовать без авторского комментария. Все то, что называется "постмодернистским романом", непременно включает в себя рассуждения о самом
процессе написания произведения. Вводя в ткань повествования теоретические пассажи, писатель постмодернистской ориентации нередко в них прямо апеллируют к авторитету Ролана Барта, Жака Деррида, Мишеля Фуко и других апостолов постструктурализма, заявляя о
невозможности в новых условиях писать "по- старому".
Предпосылки возникновения постмодернизма
Основной предпосылкой возникновения постмодернизма исследователи называют направление постструктурализма, возникшее во Франции и США в 50-е годы в качестве ревизии структурализма. Свою задачу постструктуралисты видели в борьбе с тотальностью в языке и
литературе, в переосмыслении и адогматизации истин и ценностей, укоренившихся в сознании современного европейца. В основе постструктуралистской эстетики лежат в первую очередь концепции, восходящие к философии становления (Ф. Ницше, А. Бергсон, Э.
Гуссерль). Именно в работах постструктуралистов четко обозначилось размывание любых границ между дисциплинами – наукой, искусством, философией, эстетикой, что ныне является одной из характерных примет постмодернизма. Постструктурализм есть
«методологическое сомнение» по отношению ко всем «позитивным истинам».
Очевидно, что сейчас уже можно говорить о существовании специфического постструктуралистского-постмодернистского комплекса общих представлений и установок. Первоначально оформившись в русле постструктуралистских идей, этот комплекс затем стал все
больше осознавать себя как "философию постмодернизма". Тем самым он существенно расширил как сферу своего применения, так, возможно, и воздействия. Суть этого перехода состоит в следующем. Если постструктурализм в своих исходных формах практически
ограничивался относительно узкой сферой философско-литературных интересов (хотя нужно отметить и явно относительный характер подобной "узости"), то есть, условно говоря, определялся французской философской мыслью (постструктурализмом Ж. Деррида, М. Фуко,
Ж. Делеза, Ф. Гваттари и Ю. Кристевой) и американской теорией литературоведения (деконструктивизмом де Мана, Дж. Хартмана, X. Блума и Дж. X. Миллера), то постмодернизм сразу стал претендовать как на выражение общей теории современного искусства вообще,
так и особой "постмодернистской чувствительности" - специфического постмодернистского менталитета. В результате постмодернизм стал осмысляться как выражение "духа времени" во всех сферах человеческой деятельности: искусстве, социологии, философии, науке,
экономике, политике и проч.
Термин «постмодерн», давший впоследствии жизнь термину «постмодернизм», появился задолго до самого явления. Он был употреблен Р. Паннвицем в книге «Кризис европейской культуры» (1917!). Знаменитый английский историк Арнольд Тойнби в своей
работе «Исследование истории» (1947) использовал термин «постмодернизм» для обозначения послевоенного периода развития западноевропейской цивилизации. В 1969 году Лесли Фидлер напечатал в журнале «Плейбой» статью под названием
«Пересекайте границы, засыпайте рвы». С этого времени о постмодернизме заговорили как о литературном явлении, затем оно было перенесено на архитектуру, а на рубеже 70-80-х годов его стали употреблять для обозначения целой духовной ситуации
последней трети ХХ века.
III. «Игра в классики» Х. Кортасара как постмодернистский роман.
1. Деконструкция.
Основным понятием постмодернистской эстетики является понятие «деконструкция». Основным, потому что именно из него (причина) следуют все эстетические положения постмодернизма (следствия). Этот термин введен в 1964 году руководителем Пражской
фрейдистской школы Ж. Лаканном и теоретически осмыслен Ж. Деррида в книге «О грамматологии3» (1967). В этой работе Деррида предпринимает попытку критики метафизического4 способа мышления, основанного на бинарных оппозициях, где один из терминов занимает привилегированную позицию; на выделении центра, основы, начала; на вульгарном понимании таких понятий, как «время», «история» и др. Для преодоления метафизической
традиции Деррида предлагает, прежде всего «расшатывание, смещение границ». По Деррида деконструкция5 – это операция, предполагающая разложение на части, расслоение онтологии, дабы понять, как она
сконструирована. Дж. Р. Серль дал определение деконструкции как некоего множества текстуальных стратегий, направленных на подрыв логоцентрических тенденций. При этом в онтологическом плане для постмодернизма характерен постепенный переход от установки
«познание мира с целью его переделки» к требованию деконструкции мира. Постмодернизм полностью отказывается от стремления преобразовать мир на путях его рациональной организации, констатируя глубинное «сопротивление вещей» этому процессу. Деконструкция
в частности направлена на разрушение уверенности в том, что текст обладает единственным и фиксированным значением. Так, роман Х. Кортасара «Игра в классики» представляет собой текст со множеством значений и прочтений. Сам автор в предисловии,
названном «Таблица для руководства», пишет: «Эта книга в некотором роде – много книг, но, прежде всего это две книги. Читателю предоставляется выбирать право выбирать…» [23, стр. 13]. Деррида, а вслед за ним и Кортасар отказываются от чисто
лингвистического восприятия текста: «Для меня текст безграничен. «Нет ничего вне текста»: это означает, что текст – не просто речевой акт. Допустим, этот стол для меня – текст. То, как я воспринимаю этот стол – долингвистическое восприятие, - уже само по
себе для меня текст» [14]. Кортасар, следуя за французским философом, вставляет в свой роман совершенно не текстовые элементы. Например, в главе 84 мы встречаем две вставки – «Сюита» и «Последняя сюита». Они даются как ремарки в пьесе, в скобках,
выделяясь в отдельные абзацы. Много в тексте романа и песенных отрывков, почти в каждой главе встречаются слова арий, блюзовых композиций, популярных песенок, причем часто они даются сами по себе, без комментариев, то есть, остается не ясно, кто их
напевает или откуда они доносятся. Для Кортасара, для которого музыка значила также много, как и литература, вставка музыкального фрагмента в литературный естественна, она не разрушает текст, а «текстуализирует» реальность (философ и теоретик
постмодернизма М.Фуко задавался вопросом, почему бы ни включать в собрание сочинений список вещей, сданных в прачечную?). Кроме того, Кортасар стирает границы между различными языками культуры, но в первую очередь, между философией и литературой. Его
роман – эстетизированная философия или философская литература. Такая двойственность порождает:
- мутантные жанровые образования
- эффект «двойного кодирования»
- гипертекстовые связи
Жанровые образования
Для литературы постмодернизма характерно появление новых гибридных жанровых и стилевых форм, наиболее адекватно выражающих деконструктивный подход, отрицающий любую иерархию и «маргинальность» знаков.
Рассмотрим появление новых жанровых форм на примере текста «Игры в классики». Опираясь, на исследования И. С. Скоропановой [40], можно выделить два доминантных направления в обновлении Кортасаром жанровой системы:
1) соединение по принципу равноправия языка литературы и языков других нелитературных форм знания (например, философии, литературоведения, искусствоведения, истории, публицистики). Поскольку периферийные области научного знания и центральные
уравниваются в правах, то о романе «Игра в классики» нельзя сказать, будто бы это роман с отступлениями, ибо отступления занимают в нем то же место (по своему значению и месту в композиции), что и основное повествование. Кортасар создает произведение «на
грани» - между философией, критикой и литературой.
«Игра в классики» как философский роман-трактат содержит размышления и споры героев на онтологические темы, многочисленные цитаты и аллюзии из философов разных эпох (в частности, упоминаются Хайдеггер, Гераклит, Гердер, Гуссерль, Кант, Кьеркегор,
Спиноза, Платон, Сократ, Чжуань-Цзы, Шестов и др.). Кроме того, по мнению критиков, роман сам по себе является иллюстрацией идей Барта (о нем см. ниже) и Деррида.
«Игра в классики» как традиционный роман (таким он воспринимается в первом прочтении, то есть, начиная с главы 1 и заканчивая главой 56) представляет собой текст с завязкой, кульминацией и развязкой. В нем есть традиционная любовная история, герои
антагонист и протагонист, линейный, развивающийся последовательно (за некоторыми исключениями) сюжет, иногда замедляемый рассуждениями героя, но в целом законченный.
«Игра в классики» как роман-критика. Это «роман о романе», то есть в процессе письма автор задумывается над процессом письма. Симбиоз литературоведческого теоретизирования и художественного вымысла можно, разумеется, объяснить и чисто практическими
нуждами писателя, вынужденного растолковывать читателю, воспитанному в традициях реалистического искусства, почему он прибегают к непривычной для него форме повествования. Однако проблема лежит гораздо глубже, поскольку эссеистичность изложения, касается
ли это художественной литературы или литературы философской, литературоведческой, критической и т. д., вообще стала знамением времени, и тон здесь задают такие философы, как Хайдеггер, Бланшо, Деррида и др. Роман Кортасара иллюстрирует известный
постмодернистский тезис о том, что «текстуализация действительности» провоцирует интерес художественного творчества к проблемам художественного творчества.
2) актуализация «второстепенных» жанров (например, эссе, мемуаров, житий, комментариев, трактатов, статистических данных, лирической поэзии, газетных заметок, философских максим и др.). Периферийные явления приобретают статус центральных, что, в
общем, простительно, если учесть, что речь идет как раз о некорректности вопроса «первостепенности». То же и с жанрами: их нельзя сравнивать, делить на более и менее значимые. Так, последняя часть «Игры в классики», которая называется «С других
сторон», содержит различные жанровые формы, воспринимаемые читателем наряду с традиционным повествовательным текстом романа, а не обособленно. Это: отрывок из книги Леви-Стросса6 «Печальные тропики» (глава
59), незаконченные заметки вымышленного писателя Морелли (61, 71, 82, 94, 112, 115, 137), вырезки из научных журналов (62, 119), образец карточки для клубной картотеки (65), отрывки из газетных заметок (130, 134), письмо с орфографическими ошибками (69),
отрывок проповеди (70), отрывок из книги Лесама7 (81), из Анаис Нин8 (110), из работы Дерроу9 (117), письма некоего
Хуана Куэваса (89), драматический полилог, оформленный в духе абсурдистских пьес Беккета или Ионеско10 (96), песня (106), письмо Морелли (107), автобиография (111), описание казни из отчета (114), речь
Мандрагоры из «Изабеллы Египетской» Ахима фон Арнима11 (126), отрывок трактата о трех этапах цивилизации вымышленного философа Сеферино (129, 133) и даже анонимный комментарий к Камерному концерту для
скрипки, фортепьяно и 13 духовых инструментов Альбана Берга12. И это далеко не полный список использованных жанров, полный занял бы несколько листов. Некоторые исследователи связывают использование
документальных жанров с проблемой псевдореализма, присущего постмодернистской манере письма. Ее постмодернистское своеобразие заключается в том, что здесь она выступает как псевдофактографичность или псевдодокументализм, когда неинтерпретированные куски
реальности посредством коллажной техники вводятся в ткань художественного повествования как бы в сыром, неопосредствованном виде.
Постмодернизм деконструирует опору модернизма, в результате чего на уровне формы он прибегает к дискретности и эклектичности. Отсюда, по мнению некоторых исследователей, коренное различие в применении техники коллажа в искусстве модернизма и
постмодернизма. Модернистский коллаж, хотя и составлен из изначально несопоставимых образов, тем не менее, всегда объединен в некоторое целое всеохватывающим единообразием техники: он нарисован в одном и том же стиле одним и тем же материалом и
аранжирован как хорошо уравновешенная и продуманная композиция. Модернистский коллаж передает зрителю ощущение симультанности: он как бы видит одну и ту же вещь одновременно с разных точек зрения. В постмодернистском коллаже различные фрагменты
предметов, собранные на полотне, остаются неизменными, нетрансформированными в единое целое. Каждый из них сохраняет свою обособленность.
Знаменательно, что в общей структуре произведения они все равно элементы коллажа получают интерпретацию и, как правило, в весьма однозначной идеологически-эстетической перспективе.
Эффект «двойного кодирования».
«Двойное кодирование» - это отрицание иерархии литератур. Больше нет деления литературы на non-fiction и fiction. «Двуадресность» постмодернистской литературы, обращенной к высокоинтеллектуальному и массовому читателю одновременно, предопределяет
такое ее качество, как гибридность, в основе которой лежит двойное (тройное и т.д.) кодирование, причем все литературные коды выступают в тексте как равнозначные.
Данный принцип находит свое выражение в двухуровневой или многоуровневой организации текста или, например, в многоязычии текста, в котором языки абсолютно равноправны.
Впервые о разрушении границ между массовым и элитарным в искусстве писал Л. Фидлер в своей программной статье «Пересекайте границы, засыпайте рвы» (1969). По его мнению, такое сближение массового и элитарного во-первых, будет способствовать единению
публики и художника, а во-вторых, расширит возможности литературы. «Игра в классики» - пример такого «многоуровнего» письма. Текст Кортасара заключает в себе несколько историй для разного типа читателей. С одной стороны, перед нами история неудачных
поисков себя латиноамериканским интеллигентом 50-60-х годов XX века. С другой, сложнейший философский роман, контаминирующий теорию дзен-буддизма, ламаизма и индийской философии с ее основными понятиями сатори, бардо и мандалы. Известно, что
первоначально роман должен был называться «Мандала13». Однако впоследствии вместо мистического лабиринта буддистов, нередко представляющее собой картину или рисунок, разделенные на клеточки, подобно
классикам, на первый план вышли именно классики, а символика мандалы, с ее ритуальными глубинами, растворилась в ассоциативных рядах. В тексте главный герой Оливейра не единожды рисует символику мандалы – для него это графическая эмблема недостижимой
жизненной позиции. Почувствовать себя в центре мандалы для героя значит ощутить себя не на обочине, а в центре жизни.
Философский роман «Игра в классики» напрямую связан с писателем Морелли, который в свою очередь сочиняет свой философский роман. Его отрывки инсталлируются в общий текст фрагментарно, на первый взгляд они не связаны с основным повествованием.
Неоконченная «Мореллиана» доступна тем читателям, которые выбрали второй способ чтения, предложенный Кортасаром – особый порядок, начиная с главы 73 и якобы заканчивая главой 131, а на самом деле, бесконечный (об этом см. ниже). О двойственности текста
«Игры в классики» говорится в программной главе 79 устами писателя Морелли (некоторые считают его двойником автора), планирующего такой «комический роман», где за тривиальными событиями улавливался серьезный подтекст, чтобы ироничность и условность
рассказа побуждала читателя не удовлетворяться перипетиями действия, а углубляться в подтекст. По мнению исследователя И. Тертерян [41], «Мореллиана» в третьей части романа – это голос автора, комментирующего свой замысел.
Еще один интересный пример «двойного кодирования» в тексте – глава 34. Она построена как контаминация двух текстов – размышлений Оливейры (интеллектуальный план) и книги, которую читает Мага – реалистического романа Бенито Переса Гальдоса
(беллетристический план). Причем, эти тексты сливаются в один текст, они переплетаются не только на архитектоническом уровне (одна строчка размышления Оливейры, другая – текст романа Гальдоса), но и на семантическом: в рассуждениях Оливейры периодически
появляются критические замечания по поводу романа Гальдоса. Например:
«В конце концов, мне удалось мирно все уладить» - допотопный язык,
мог в любое время оставаться один, если мне это было нужно, или14 штампованные фразы, специально, чтобы передавать архипрогнившие
нежиться в тепле семейного очага, когда возникала подобная
мысли, переходящие, как деньги, из рук в руки, от поколения к
необходимость. Жил мой славный родственник, вернее мы жили,
поколению, te voila en pleine echolalie. «Нежиться в тепле семейного
в квартале, построенном на том месте, где прежде находилось Посито.
очага» - ну и фразочка, мать ее, ну и фразочка.»
[ 23, с.218]
Здесь «двойное кодирование» использовано в буквальном смысле, как предлагал это делать Деррида. Он представлял себе «двойное письмо» в виде двух текстов, расположенных на одной странице – текста Платона и текста Малларме. Или, например, Гегеля и Жане.
Новый тип книги, по Деррида, основан на принципе нелинейности в организации текста. Он характеризуется ассиметричностью, объединением, казалось бы, несовместимых вещей. Таким образом, подрывается тотальность, заложенная в традиционной книге.
Гипертекстовые связи
Во второй половине XX в. в связи с развитием постструктуралистской философии разрабатывается тезис о бесконечности смысла вообще и смысла литературного произведения в частности. Первой работой, поставившей эти вопросы, явилась работа Р. Барта «S/Z»
(1963). Эта книга была одним из самых удачных опытов в литературоведческом деконструктивизме. После ее выхода развязалось множество споров, а появившийся в том же году роман Х. Кортасара «Игра в классики», по сути, стал художественным воплощением идей
Барта. Новый литературный подход наиболее точно отображал процессы современного мышления, новые философско-этические категории. Данный способ письма сначала получил название нелинейного, он существовал в модификациях модернистского потока сознания и
французского «нового романа», в 70-е годы формируется новое литературное явление, которое десятилетие спустя получило название гипертекста (впервые этот термин употребил И. Кальвино в начале 80-х).
Гипертекст – это текст, фрагменты которого снабжены определенной системой выявленных связей с другими текстами (т. н. ссылок) и предлагают читателю различные «пути» прочтения. В этом и состоит специфика гипертекста. Если обычный текст является
линейным, и двигаться в его пространстве возможно только в направлениях, ограниченных одной плоскостью, то ризоморфный15 гипертекст открывает новые «поперечные» измерения в текстовом универсуме. Когда мы
читаем линейный текст, и его содержание вынуждает нас обратиться к другим источникам, то нам необходимо выйти за рамки его пространства, чтобы переключить свое внимание на другой, такой же принципиально одномерный и ограниченный текст. Гипертекст
полностью меняет ситуацию. Он обеспечивает мгновенный переход от одного текстового поля к другому, причем для этого не нужно покидать исходного поля. Текст, не теряя своих пространственных очертаний, обретает иное измерение, где он становится в
буквальном смысле бесконечным, ведь от одной ссылки к другой можно двигаться без конца (гипертекстовое произведение можно сравнить с гипертекстом глобальной сети Интернет: в обоих случаях срабатывает система ссылок). Таким образом, каждый текст
оказывается включенным во всю систему созданных до него или параллельно с ним текстов, приобретает визуальное многомерное представление и становится «мультисеквенциальным», т. е. читается в любой последовательности. Понятно, что такое представление
текста уже самой своей структурой обеспечивает его «децентрацию», и поэтому совершенно естественно, что ориентация на «гипертекстуальное сознание» порождает тексты, созданные по типу словарей, энциклопедий или строение которых можно обозначить как «На
Ваше усмотрение» (заглавие романа Р. Федермана). Такая композиция текста в какой-то мере приравнивает на уровне интерпретации писателя и читателя, поскольку выбор и смена фокуса и пути чтения текста зависят по преимуществу от «потребителя»
информации.
История гипертекстовой литературы насчитывает всего два с небольшим десятилетия, формально она появилась лишь после изобретения компьютера. Первыми гипертекстами принято считать романы М.Джойса, а первым значительным гипертекстовым романом - его роман
"Полдень".
Особенность данного текста в том, что его можно адекватно читать только на дисплее компьютера. Он построен так, как строится гипертекст. В нем есть "кнопки" (выражение В.Руднева), нажимая которые можно переключать движение сюжета в прошлое и в
будущее, менять эпизоды местами, углубиться в предысторию героини, изменить плохой конец на хороший. Произведения Майкла Джойса полностью соответствовали представлениям о гипертексте, хотя гипертекстами можно считать и более ранние литературные
произведения, такие как " Бледный огонь" В. Набокова. Предтечей же гипертекста, как, впрочем, и всей постмодернистской литературы в целом, можно считать Х.Л.Борхеса, который в своем рассказе "Анализ творчества Герберта Куэйна" создал литературный рецепт
гипертекста. Рассказ Борхеса, по мнению самого автора надо читать в сложном порядке, иначе «не почувствуешь особый смак этой странной книги».
Заложенные Борхесом, Набоковым и Кортасаром азы построения и формирования такого рода литературной материи, как гипертекст, полностью реализовались в 80-е годы, причем как в компьютерном варианте (сетература и кибература), так и в бумажном -
собственно гиперлитература. Романы Итало Кальвино, Петера Корнеля и Милорада Павича можно считать уже «зрелыми» гипертекстовыми произведениями.
Исследователь творчества Х. Кортасара И. Тертерян называет среди его предшественников в жанре гипертекста Р. Русселя (1877-1933), предложившего читателю своей книги «Африканские впечатления» начать с середины, дочитать до конца, а затем вернуться в
начало, и Р. М. Рильке (1875-1926) с его «Записками Мальте Лауридса Бригге». Повесть Рильке – это собрание отрывочных записок, чьих-то разрозненных бумаг, все же являющихся единым целым. Этот прием Кортасар позаимствовал для своей «Мореллианы».
Иногда критика связывают оригинальную форму «Игры в классики» с поисками французского «нового романа». Сам Кортасар отрицал такое влияние, поскольку к концу 50-х, когда только начали выходить произведения авторов «нового романа», замысел «Игры в
классики» уже сложился. В целом и для «новых романистов» и для Кортасара признание необходимости преобразования традиционной романной структуры стало общей посылкой для разнонаправленного движения. Еще на родине, в 1948 году, он опубликовал «Заметки о
современном романе», в которых утверждал, что от традиционного романа осталась одна груда формальных приемов и что перспективой современной литературы является движение прочь от традиционного повествования к поэтическому образу мыслей.
Роман «Игра в классики» – типичный гипертекст. В «Таблице для руководства» автор говорит, по крайней мере, о двух способах прочтения, не отрицая других возможных.
Первый способ – обычный, то есть линейный, начиная с главы 1 и заканчивая главой 56. Тогда книга состоит из двух частей. Фабула первой («По ту сторону», главы с 1-ой по 36-ю) - жизнь аргентинского эмигранта Орасио Оливейра в Париже и его роман
с Магой-Лусией из Уругвая. Второй («По эту сторону», главы с 37-ой по 56-ю) – возвращение героя на родину после неудачных поисков пропавшей Маги, попытка возродить любовь к ней в завоевании другой женщины и, после новой неудачи, - самоубийство.
Второй способ – нелинейный, с помощью ссылок, следуя той таблице, которую дает Кортасар вместо предисловия. Прочитывая 73 главу (она в таблице является первой), мы замечаем в самом конце цифру в скобках – это номер главы, которую следует читать
дальше. Здесь мы имеем дело с другой книгой, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вставленные «необязательные» (необязательные для фабулы) главы расширяют круг ассоциаций и увеличивают количество «отступлений», которых предостаточно и в
«первой» книге, - отступлений от фабулы, переводя ее (фабулу) на второстепенное место. Во-вторых, существенно меняется ритм книги. Ведь, в сущности, было бы гораздо проще, если бы главы части третей печатались в той последовательности, в какой они
вставляются между главами частей первой и второй, но Кортасар заставляет нас перелистывать страницы вперед, искать те главы, ссылки на которые мы встречаем. Для облегчения этого процесса номера глав указаны в верхнем углу каждой страницы, помимо ее
номера, указанного традиционно внизу.
Интересное замечание – в «Таблице для руководства» отсутствует глава 55, вместо нее дается следующая за 54 глава 129. В финале автор предусматривает кольцо: после главы 131 предлагается глава 58, а от нее – вновь отсылка к главе 131. Обе они посвящены
проблематичному выздоровлению героя после попытки самоубийства, так что вопрос о его судьбе (или, точнее, жизни) так и остается неразрешенным. Таким образом, перед нами возникает бесконечная, незамкнутая структура.
Возможны и другие способы, не указанные самим автором. Например, читать книгу линейно с 1 главы по 155, включая «Необязательные главы», или выхватывая произвольно по главе, ведь каждая глава «Игры в классики» претендует на целостность и
законченность. В целом, композиция книги трехчастна. Первая часть, названная «По ту сторону», включает главы 1-36, вторая часть «По эту сторону» включает главы 37-56, третья же часть «По обе стороны» (с подзаголовком «Необязательные главы») – 57-155.
Фабульно третья часть не добавляет практически ничего, кроме намека на то, что самоубийство Оливейры, возможно, не удалось, и он медленно возвращается к жизни. На поверхностный взгляд это просто не вошедшие по каким-то причинам в основной корпус книги
(«необязательные») главы, варианты, выписки из газет и книг (в большинстве своем – вымышленных), – так в солидных собраниях сочинений существует раздел ранних редакций, рабочих и подготовительных материалов, не вошедших в окончательный корпус
произведения текстов.
Гиперроманом «Игра в классики» будет являться только в случае использования ссылок. Такой текст будет иметь следующие характеристики:
Дисперсность структуры. Информация представляется в виде небольших фрагментов-«гнезд» (nodes), и «войти» в эту структуру можно с любого звена. Как уже было сказано, в текст «Игры в классики» можно войти с любой главы. Настолько целостными они
являются, что напрашивается сравнение со словарными статьями, к которым мы обращаемся по мере надобности, хотя можно прочитать весь словарь целиком, от начала до конца.
Нелинейность гипертекста. Читатель отныне волен (вынужден) сам выбирать путь чтения, создавая при этом свой текст. Во-первых, такая ситуация, как отмечает Дж. Ландау, делает невозможной классическую литературную критику: гипертекст растворяет ту
жесткую фиксированность текста, что является фундаментом теории и практики нашей критики. Критик в принципе не может прочесть гипертекст целиком, т. к. это не исчерпываемый чтением текст. Во-вторых, процесс чтения превращается в процесс письма – читатель
создает собственный текст, выбирая способ чтения. Таким образом, дистанция между письмом и чтением разрушается. Сам Кортасар указывает на роль своего читателя в создании книги: «Читателю предоставляется право выбирать одну из двух возможностей…» [23,
стр. 13].
Разнородность и мультимедийность, т.е. применение всех средств воздействия на читателя, какие только возможны технически в данной системе - от чисто литературных (выбора повествовательной стратегии и стилистики) через издательские (шрифты, верстка
иллюстрации) и вплоть до самых сложных, компьютерных (звук, анимация, отсылка к другим, нехудожественным материалам). В «Игре в классики» использованы чисто литературные средства суггестии: различные шрифты, а также языки – французский, английский,
латынь, итальянский и др.
Ссылка – структурно важный элемент гипертекста. Ссылка в постмодернистском тексте – это материализовавшаяся аллюзия модернистского текста. Но в постмодернизме аллюзии и намеки огрубляются, визуализируются, вытаскиваются на поверхность. О ссылках в
романе «Игра в классики» см. выше.
В связи с тем, что чтение постмодернистского текста предполагает активное участие читателя, Кортасар противопоставлял пассивного читателя, испорченного массовой легкодоступной литературой, и читателя-сообщника, соучастника творческого процесса. В
одном из интервью, Кортасар говорил о том, что все его ухищрения «служат способом постепенно вывести читателя из себя, из привычных рамок». В романе «Игра в классики» писатель Морелли, возможно, alter ego Кортасара, или, во всяком случае, главный герой
третей части «Игры в классики» видит во взаимоотношениях автора и читателя основную проблему дальнейшего развития литературы. Он пытается создать «антироман» или «комический роман» и так определяет его суть:
«Положение читателя. Как правило, всякий писатель ждет от читателя, чтобы тот его понял, приняв во внимание свой собственный опыт, или чтобы он воспринял определенное послание и воплотил его в свой опыт. Писатель-романтик хочет, чтобы поняли его
самого непосредственно или через его героев; писатель классического реализма хочет научить, оставить свой след в истории.
Третья возможность: сделать читателя сообщником, товарищем в пути. Соединить их одновременностью, поскольку чтение отбирает время у читателя и передает его времени автора. Таким образом, читатель мог бы стать соучастником, сострадающим тому опыту, через
который проходит писатель, в тот же самый момент и в той же самой форме. Все эстетические уловки в этом случае бесполезны: материя должна вынашиваться и зреть, необходим непосредственный жизненный опыт (переданный через посредство слова, однако слово
как можно меньше эстетически нагруженное: вот каков «комический» роман, отличающийся иронией, антикульминациями и иными признаками, указывающими на совершенно особые цели). Для этого читателя, «mon semblable, mon frere»(моего ближнего, моего брата -
фр.), комический роман (а что такое «Улисс»?) должен быть подобием сна, где за тривиальными событиями улавливается более серьезный заряд, в сущность которого нам не всегда удается проникнуть. В этом смысле комический роман должен являть собой необычайную
скромность: он не обольщает читателя, не взнуздывает эмоций или каких-либо других чувств, но дает ему строительный материал, глину, на которой лишь в общих чертах намечено то, что должно быть сформировано, и которая несет в себе следы чего-то, что,
возможно, является результатом творчества коллективного, а не индивидуалистического. Точнее сказать, это как бы фасад с дверями и окнами, за которыми творится тайна, каковую читатель-сообщник должен отыскать (в этом-то и состоит сообщничество), но может
и не отыскать (в таком случае - посочувствуем ему). То, чего автор романа достиг для себя, повторится (многократно, и в этом - чудо) в читателе-сообщнике» [23, стр.416].
В процессе чтения все трое - автор, текст и читатель – превращаются в единое «бесконечное поле для игры письма». В книге «Тысяча тарелок» Ж. Делез и Ф. Гваттари развивают мысль о том, что само письмо циркулярно, писатель круговыми движениями как
бы переходит от тарелки к тарелке; читатель же пробует изготовленные им блюда, но главное для него - не их вкус, а послевкусие. Авторы, таким образом, разделяют герменевтические идеи о множественности интерпретаций как основной черте
эстетического восприятия.
2. Интертекстуальность
Согласно теории Кристевой, на рубеже XIX – XX вв. произошёл «разрыв» в преемственности этических, эстетических и социальных ценностей, причиной которого был переход от индустриального (буржуазного) состояния к постиндустриальному (постбуржуазному).
Наиболее ярко «разрыв» выразился в литературе как переход от репрезентативности к интертекстуальности. Если репрезентативная литература основывалась на выражении языковыми формами идейного корпуса, то интертекстуальность представляет собой автономное
функционирование текстов, образующих единственную реальность. Интертекстуальность - термин, введенный в 1967 Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или
их части) могут многими разнообразными способами явно (или неявно) ссылаться друг на друга. В контексте всего постмодернистского мировоззрения интертекстуальность рассматривается как единый механизм порождения текстов. Интертекстуальность нельзя
рассматривать как чисто механическое включение ранее созданных текстов (или их элементов) в создаваемый текст. В концепции постструктурализма (ведь именно в русле этого течения велись интенсивные исследования данного феномена) интертекстуальность тесно
связывается с положением «мир есть текст», сформулированным еще Ж. Деррида. Согласно этому положению, вся человеческая культура рассматривается как единый текст, включенный в бытие, то есть некий единый интертекст. Все создаваемые тексты, в таком случае,
с одной стороны, в основе своей имеют единый предтекст (культурный контекст, литературная традиция), а с другой стороны, в свою очередь являются интертекстами, так как становятся явлениями культуры. Ставшее для большинства западных теоретиков
каноническим определение интертекстуальности Р. Барта может более наглядно представить ситуацию: «Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты предшествующей
культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Как необходимое предварительное условие для любого текста, интертекстуальность не может быть сведена к проблеме источников и влияний; она
представляет собой общее поле анонимных формул, происхождение которых редко можно обнаружить, бессознательных или автоматических цитаций, даваемых без кавычек» [6] . Нужно отметить, что не все западные ученые разделяют взгляды постструктуралистов на
интертекстуальность. Интертекстуальность может также быть рассмотрена как факт соприсутствия в одном тексте двух или более текстов, реализующийся в таких приемах, как цитата, аллюзия, плагиат и др., Эту точку зрения на интертекстуальность выдвинул
Женетт Ж. в своем труде «Палимпсесты: Литература во второй степени» (1982).
В настоящей работе интертекстуальность понимается как общее свойство текстов, выражающееся в наличии связей, благодаря которым тексты могут явно или неявно ссылаться друг на друга. Интертекстуальность размывает границы, лишая текст законченности,
закрытости. Интертекстуальность далеко не всегда может быть выявлена, особенно если автор не преследует цель узнавания читателем претекста16.
В романе Х. Кортасара «Игра в классики» интертекстуальность присутствует как в явном, так и в скрытом виде. Помимо данной действительности, Кортасар постоянно имеет дело с предшествующей и современной ему литературой, и шире – культурой, с которой он
находится в непрерывном диалоге. Так, мы встречаем претекстовые элементы с первых глав романа. Это строчки из Верлена, Кэрролла, Рильке, Бодлера, Хемингуэя, Шекспира и множества других авторов, цитаты, органично вплетенные в текст повествования, часто
узнаваемые только из комментариев. Это и перефразированные афоризмы и пословицы, и иронические парафразы литературных персонажей, и многочисленные отсылки к буддийским притчам, и реминисценции философских, поэтических, исторических трудов.
В третье части «Игры в классики» цитирование предстает в своем классическом виде, то есть с указаниями субъекта речи, источника цитирования и использованием кавычек (кавычки используются не всегда). В «Необязательных главах» Кортасар вставляет в ткань
повествования: отрывки из романа Леви-Стросса «Печальные тропики» (глава 59), проповеди Экхарта (70), романа Камбасереса «Сентиментальная музыка»(153), стихотворение Паса (149), трактата Геллия «Аттические ночи»(148), статью из «Синди Таймс» (150),
статью о садоводстве из альманаха «Ашетт» (134), отрывок из статьи Арто «Нервомер» (128) и еще множество отрывков, главок, строф из художественной литературы, научных трактатов или периодики, реальной или выдуманной.
Субстанциональный статус таких включений не позволяет расценивать текст романа только как коллекцию чужих цитат. Впрочем, на этом не настаивают и сторонники «умеренной» интертекстуальности. Речь идет о том, что цитирование,
подрывая линейное восприятие текста, стимулирует такие интертекстуальные экскурсы читателя-интерпретатора, которые при успешном их завершении приводят не просто к восстановлению целостности смысла текста, но и к его обогащению («конструктивная
интертекстуальность» по И. П. Смирнову): «Степень приращения смысла в этом случае и является показателем художественности интертекстуальной фигуры». В романе «Игра в классики» интертекстуальные ссылки, помимо указанного обогащения восприятия, выполняют
следующие функции.
Экспрессивная функция - посредством интертекстуальных ссылок Кортасар сообщает о своих культурно-семиотических ориентирах, например, ссылаясь на Рильке с его «Записками Мальте Лауридса Бригге» – одной из первых гипертекстовых повестей, влияние
которой Кортасар подтверждал в ряде интервью и очерков. Или упоминая Борхеса, своего литературного учителя и наставника. Иногда интертекстуальные ссылки раскрывают характеры героев, их эстетические предпочтения и философские взгляды. Так, например,
примитивный роман Гальдоса, который читает Мага, приводит в ужас интеллектуала-Оливейру, что еще раз подчеркивает пропасть между ними. А обилие цитат из философских трудов в записках Морелли говорит о его энциклопедической образованности. Подбор цитат,
характер аллюзий – все это в значительной мере является (иногда невольно) немаловажным элементом самовыражения автора и его героев.
Другой пример экспрессивной функции – использование записей Морелли о «комическом романе». Эти записи – эстетическая программа самого Кортасара.
Апеллятивная функция – проявляется в том, что отсылки к каким-либо текстам в составе данного текста могут быть ориентированы на совершенно конкретного адресата – того, кто в состоянии интертекстуальную ссылку опознать, а в
идеале и оценить выбор конкретной ссылки и адекватно понять стоящую за ней интенцию. В некоторых случаях интертекстуальные ссылки фактически выступают в роли обращений, призванных привлечь внимание определенной части читательской
аудитории. Реально в случае межтекстового взаимодействия апеллятивную функцию часто оказывается трудно отделить от фатической (контактоустанавливающей): они сливаются в единую опознавательную функцию установления между автором и
адресатом отношений «свой/чужой». Например, в тексте романа «Игра в классики» идет игра с именами. Кортасар упоминает имя Мальмота-Скитальца, главного героя одноименного романа Ч. Метьюрина (1820). Что интересно, во второй главе первой части
этого романа Мальмот назван Тревелером (путешественником, странником), так же именуется один из героев Кортасара, друг Оливейры. Эта игра с именами понятна только определенному кругу читателей. Или другой пример: в главе 31 Оливейра объясняет Осипу:
«Инстанции реальности. Поясняю: Реконкиста – то, что мы сделали с англичанами. Кордова – многомудрая. Эсмеральда – цыганка, повешенная за любовь к ней одного архидьякона…»
Это чисто литературная отсылка. Эсмеральда – героиня романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Но в этом абзаце есть еще две отсылки, обе – исторические реминисценции: намек на изгнание англичан из Буэнос-Айреса в 1806 (Оливейра сравнивает его с
движением испанцев против мавров, получившем название Реконкисты) и намек на расцвет наук и искусств в столице Арабского халифата (ныне Кордова – главный город одноименной провинции в Андалусии).
Такие отсылки опознаются только подготовленным читателем, и только в этом случае обогащают восприятие текста романа.
Поэтическая функция (развлекательная функция)- опознание интертекстуальных ссылок предстает как увлекательная игра, своего рода разгадывание кроссворда, сложность которого может варьировать в очень широких пределах: – от безошибочного
опознания строчки из популярной песни до интертекстуальных отношений, о которых автор, возможно, даже и не помышлял. В таких случаях говорят о «неконтролируемом подтексте», «интертекстуальности на уровне бессознательного». Поэтическая функция
интертекстуальности использована в описании вечеров в Клубе Змеи с их интеллектуальными дискуссиями, особенно в речи Осипа Грегоровиуса, состоящей на половину из чужих сентенций.
Функция предсказания – интертекстуальные ссылки могут содержать намеки на последующие события или сравнения событий текста с другими событиями, реальными или вымышленными. Они могут, помимо прочего, стилистически «возвышать» или, наоборот,
снижать содержащий их текст. В «Игре в классики» примером снижающей ссылки может служить отрывок из альманаха по садоводству «Ашет», вставленный между главами 24 и 25. Эти главы содержат нелепый диалог Маги и Грегоровиуса, а вставной отрывок из альманаха
еще больше подчеркивает нелепость ситуации, ее гротескность. Возможно, этот отрывок вспоминает заскучавшая во время очередного монолога Осипа Мага, или его передают по радио. В любом случае, он является составляющим ситуации, частью текста. Интересно,
что «передачи информации о внешнем мире» здесь не происходит, информативность отступает на второй план; читателю, как и автору, не важны нюансы и различия французского и английского стилей сада. Важно, какое впечатление создается при использовании ссылки
такого рода. Другой пример: письмо редактору журнала «Обсервер» (глава 146) об исчезновении бабочек дается непосредственно перед главой 29, в которой исчезает Мага. Благодаря отсылке, Мага уподобляется бабочке.
Интертекстуальное отношение представляет собой одновременно и конструкцию «текст в тексте», и конструкцию «текст о тексте». Они с одной стороны, самоценны и представляют законченную мысль, а с другой – вспомогательны по отношению к основному
повествованию17.
Взаимоотношения интертекстуальности и гипертекстуальности представляют собой нерешенный вопрос. С одной стороны, они взаимосвязаны, ведь цитата есть не что иное, как ссылка. С другой стороны, заданная в тексте авторская интертекстуальность – т. е.
структурированная сеть ограничений, наложенных текстом на восприятие читателя, – находится в противоречии с аморфной сетью свободных ассоциаций, которую позволяет гипертекстуализация.
«Смерть автора».
В 1968 году появились две небольшие работы французских философов, посвященные «смерти автора». Это статья «Смерть автора» Р. Барта [6] и работа М. Фуко «Что такое автор?18» [44]. Р. Барт задается
вопросом, кто произносит в художественном произведении те или иные суждения – герой, писатель-автор или писатель-скриптор? Барт вводит дифференциацию между автором и скриптором. Понимая автора как надтекстовое мировоззренческое единство, воплощенное в
глубоко личностном начале, пронизывающем все произведение, Барт доказывает, что в постмодернистском тексте автор умирает, остается лишь скриптор: «... в его < автора > власти только смешивать различные виды письма, сталкивать их друг с другом, не
опираясь всецело ни на один из них; если бы он захотел выразить себя, ему все равно следовало бы знать, что внутренняя сущность, которую он намерен передать, есть не что иное, как уже готовый словарь <... > Скриптор, пришедший на смену автору,
несет в себе не страсти, настроения, чувства или впечатления, а только такой необъятный словарь, из которого он черпает свое письмо, не знающее остановки; жизнь лишь подражает книге, и книга сама соткана из знаков; сама подражает чему - то уже забытому,
и так до бесконечности». Текст состоит не из линии слов, воплощающих единственное «теологическое» значение («сообщение» Автора-Бога), но из многомерного пространства, где обручаются и вступают в противоборство всевозможные виды письма, из
которых ни одно не является изначальным: текст есть производство цитаций, исходящих из тысяч источников культуры. Поскольку текст представляет собой многомерное пространство, составленное из чужих цитат, отсылающих ко многим культурным источникам, то
ни один автор не способен «лично породить» хотя бы какой-нибудь элемент текста. Автор черпает эти элементы из безразмерного «словаря Культуры». Изжита сама идея линейности – автор больше не предшествует своему тексту, не порождает его, он существует
«здесь и сейчас», только в процессе письма и не долее. Вывод Барта состоит в том, что источник текста располагается не в письме, а в чтении. Вся множественность значений и сущностей текста фокусируется в читателе. Имитируя самоустранение в готовом
тексте, автор максимально активизирует позицию самого читателя, не терпящего ничьих разъяснений и указаний. Художественный текст сознательно моделируется как неготовый в расчете на читателя, включающегося в события романа.. Анализируя этот процесс,
Ролан Барт пишет, что такого рода случаях писатель становится подобен "вечным переписчикам, великим и смешным одновременно, глубокая комичность которых как раз и знаменует собой истину письма; он может лишь вечно подражать тому, что было написано прежде
и само писалось не впервые; в его власти только смешивать разные виды письма, сталкивать их друг с другом, не опираясь всецело ни на один из них..." Творческие процессы такого рода привносят в восприятие элементы импровизации, непредсказуемости,
несерьезности с особой силой. Художественный мир выступает здесь как приключение, у которого есть начало пути, а конец неизвестен. По мнению Барта, фигура автора не является истинной приналежностью литературы, а утверждается лишь на определенном этапе
ее развития. Однако с конца ХIХ века и особенно в ХХ фигура автора начинает подвергаться десакрализации в связи с восприятием литературы как языка, который «пишет писателем», и, наконец, вообще исчезает в тексте, сотканном из чужих цитат. Читатель
слышит голос не автора, а текста, организованного в соответствии с правилами «культурного кода» своего времени и своей культуры.
В отношении романа «Игра в классики» адекватно говорить о «смерти автора» как о прекращении тотальности личностного начала в литературе. Скорее всего, правомерно вести речь не об исчезновении автора как такового, а об изменении качества авторского
сознания: а именно о том, что разрушается прерогатива монологического автора на владение высшей истиной, авторская истина релятивизируется, растворяясь в многоуровневом диалоге точек зрения, воплощенном в данном случае в культурных языках или «видах
письма», в диалоге, в котором равноправно участвует и повествователь-скриптор.
В романе Кортасара как в типичном постмодернистской тексте эпистемологическая доминанта модернизма (как я вижу мир?) преобразуется в онтологическую (как мир устроен? что это за мир?). Соответственно, все то, что в модернистском тексте было
качественной характеристикой авторского мировосприятия, неповторимого в своей субъективности, превращается в постмодернистском тексте Кортасара в свойства самого объекта художественного познания - самой эстетически осваиваемой и художественно
моделируемой картины мира. В «Игре в классики» автор не отсутствует, он воплощен необычным способом. Парадоксальность авторского сознания состоит в осознании автором-творцом собственной функциональности по отношению к созданному тексту – «Бог не он, а
сам текст», используя слова Б. Мак-Хейла [34]. Превращение автора в функцию текста, строящегося в свою очередь на постоянном пересечении и соответствующем преображении различных культурных языков, лишающихся своего абсолютного значения, - все это
выбивает основу у понятий «авторская позиция», «авторская точка зрения», на которых традиционно и базировались единство и целостность художественного мира.
По мнению В. Курицына [29], в постмодернистском тексте автор предстает, по крайней мере, в двух ипостасях – в роли субъекта и объекта. Хулио Кортасар в «Игре в классики» выступает как автор, как герой (точнее, несколько героев) и как критик своего же
романа (в лице Морелли). Такое «тройное присутствие» (как минимум тройное) подчеркивает ситуацию исчезновения границ – границ между сном и явью, реальностью и ирреальностью, имманентностью и трансцендентальностью.
Фокус эмпатии в тексте подвижен. Ситуация подается с разных точек зрения:
- с позиции Оливейры – главы-воспоминания о Маге, размышления о Морелли, о Клубе Змеи, об отношениях с Тревелерами
- с позиции Маги – письмо Рокамадуру-Оливейре
- с позиции Рональда – воспоминания о смерти Рокамадура и о поведении Бепс
- с позиции Талиты – попытки записать на магнитофонную ленту свой голос (47)
- с позиции Морелли – размышления о написании романа
- с позиций авторов цитат – судя по всему, эти цитаты найдены среди записей Морелли и прочитаны Оливейрой (поэтому также их можно отнести к №1)
- с позиции повествователя – описание встреч Оливейры и Маги, вечеров в Клубе Змеи, событий в Буэнос-Айресе и т. п.
Все эти фокусы эмпатии уравнены в правах и выступают как равнозначные элементы, что еще раз подчеркивает тезис о снятии оппозиции «центр-периферия».
Образ автора в тексте романа нарочито уравнивается в правах с персонажем. В контексте диалогической проблематики «смерть автора » свидетельствует лишь о том, что диалогический автор, не утрачивая своих функций
организатора и провокатора обоюдоострых контактов между мирами, языками, кругозорами, видами письма, в то же время втягивается в диалог в качестве одного из равноправных участников: культурологический масштаб этого диалога просто-напросто не оставляет
для автора «нейтральной полосы», внешней по отношению к этому диалогу позиции. Постоянные переходы образа автора от «режиссерских» функций к «персонажным» порождают многочисленные формы постмодернистской фрагментарности, иронии, авторефлексии - и вообще
участвуют в создании устойчивой игровой ситуации.
Категория игры.
С приходом постмодернизма наступает эпоха, когда в отношениях между искусством и смыслом исчезает какая-либо однозначность: теперь это отношение чисто игровое. Уравнивая в правах действительное и вымышленное, игра приводит к ситуации неограниченного
числа значений произведения: ведь его смысл уже никак не связан с предшествовавшей реальностью. Жесткие, рационалистические, детерминистические определения сменяет категория игры, воспринятая у Ницше с его представлением о бытии как игре мировых сил, и
у голландского культуролога Хейзинги, выдвинувшего концепцию двуединства культуры и игры. По его мнению, первоначально культура возникла из игры, но с прошествием времени игровой элемент отступил на задний план. Хейзинга, разрабатывая теорию игры,
употребляет понятие «священная игра» [45]. Этот акцент весьма принципиален, поскольку элемент игры оказывается уже включен в изначальное мифологическое сознание. В какую бы оболочку не облекался миф – в повествовательную, песенную, драматическую – в
мифе изобретательный дух играет на границе шутки и серьезности. В этом проявляется существенная взаимосвязь мифического действия и действия игрового.
В понимании Барта, литература постмодернистской эпохи в целом нацелена на преодоление власти, воплощенной в механизмах языка - и тем самым она утверждает полную и глубочайшую свободу: «Можно сказать, что третья сила литературы, ее собственно
семиотическая сила, заключается не столько в том, чтобы разрушать знаки, сколько в том, чтобы их разыгрывать, вовлекать в работу такого языкового механизма, у которого отказали все стопоры и предохранительные клапаны…» [6]. В постмодернистском тексте всё
подвергается пародированию, выворачиванию наизнанку, снижению – в том числе и сами законы построения текста, сами правила игры, которые в результате этой трансформации теряют абсолютное значение, релятивизируются.
Игровое начало в искусстве по-разному проявляется уровне содержания, так и на уровне художественной формы. В художественном содержании игровой элемент обнаруживает себя в разработке событийного ряда, сюжета, выстраивании коллизии и конфликта. В
этом отношении явным игровым началом отмечены как массовые жанры искусства, так и элитарные, нуждающиеся в занимательности, в необходимости удерживать интерес читателя, зрителя, слушателя. На уровне художественной формы игровое начало проявляется в
самом процессе изобретения художественных средств иносказания: метафор, языковых условностей, специальных алогизмов, обыгрывающих несхожесть правил сочетания компонентов действительного мира и мира художественного вымысла. В тех случаях, когда
искусство стремится приблизиться к тому, что называется «естественной композицией», оно теряет невыразимые подспудные смыслы, а вместе с ними - общий интерес и привлекательность. Чем больше искусство старается отождествит себя с реальностью, тем меньше в
нем оказывается собственного духовно-смыслового начала. Провоцирование новых значений, ассоциаций, смыслов активно происходит, когда художник меняет старую оптику, строит новые комбинации, соединяет то, что прежде казалось несоединимым. Новые резервы
игрового начала начинают проявляться в художественном творчестве в тот момент, когда искусство избирает в качестве своего предмета проблемы теории искусства, что характерно для искусства постмодернизма. В предыдущие эпохи произведение достаточно редко
посвящалось осмыслению того, что сопутствует его созданию («Неведомый шедевр», «Гамбара» Бальзака). В начале XX века появляется все больше произведений, направленных на творческий процесс как таковой. Искусство становится предметом искусства.
Игровое начало в романе Кортасара проявляется на всех уровнях его структуры, в первую очередь, в названии. Оно может иметь двойственную интерпретацию. С одной стороны, это детская игра в классики, расчерченные мелом на асфальте. Главное правило игры:
проскакать по клеточкам от Земли до Неба, следуя траектории камешка. По ходу романа герои постоянно сталкиваются с этой забавой: они наблюдают, как играют дети («…в этой головокружительно погоне за счастьем, похожей на детскую игру в классики…»),
обыгрывают этот мотив в своих философских диспутах («Чтобы добраться до Неба, нужны камешек и носок ботинка…»), играют сами («И тут он поступил совсем глупо: подогнув левую ногу, запрыгал мелкими прыжками на одной ноге по коридору»). В классики любит
играть Мага; бродяжка Эммануэль перепрыгивает с одной клеточки на другую, гуляя с Оливейрой; Талита играет ночью, думая, что ее никто не видит; Тревелер прыгает по светящимся в темноте клеткам; Оливейра кидает в них окурки. С другой стороны, категории
Земли и Неба приобретают философский, онтологический смысл. Тогда Земля – это страдания, вопросы, одиночество, поиск, излишняя рациональность, смерть. А Небо – радость, ответы, единение, сатори, иррациональность, вечная жизнь. Небо устойчиво
соотносится с образом Маги. Оливейра стремится достичь заветной клеточки Неба и не находит лучшего, чем выпрыгнуть из окна (под которым начерчены классики). Вс. Багно во вступительной статье к роману отмечает: «Поскольку классики нарисованы на Земле, а
Земля круглая, то, играя в классики, мы можем обогнуть земной шар и придти к исходной точке, то есть некой умозрительной перспективе – последняя, самая желанная клеточка коснется первой, а Небо, снизу, соприкоснется с Землей». Классики – сродни
буддийской мандале, некое абстрактное графическое изображение вселенной, причем в обоих рисунках в качестве основного элемента присутствует квадрат (=клетка). Одна из самых простых детских игр здесь подана как модель жизни и мироздания.
Следующий уровень, на котором проявляется игровое начало, – сюжетный. События в романе чередуются подобно театральным действиям – каждое со своей декорацией и своими персонажами. Перед читателем возникает три большие «платформы» (действия),
сменяющие друг друга – это Клуб Змеи, Цирк и Психиатрическая клиника. Они не только приходят на смену друг другу, но каждая предыдущая «платформа» пародирует и травестирует предыдущую. Комичность и нелепость философских диспутов в Клубе Змеи (да и само
его претенциозное название) подчеркивается его сравнением с Цирком, а беспорядочная, лишенная всякого смысла, жизнь циркачей доводится до абсурда в Психиатрической клинике, которую, кстати, покупает директор цирка. Но и сама клиника оказывается
перевернутой с ног на голову: пациенты на самом деле только притворяются больными, сумасшедших среди них нет.
Герои все время играют. Так Талита, балансируя между домами на опасной высоте, принимает предложение Оливейры сыграть в «вопросы-на-весах», которые требуют концентрации внимания и могут вывести ее из равновесия. История с Эммануэль – это игра в
Гераклита. Оливейра решил по его примеру «погрузиться в навоз, чтобы вылечиться от грыжи», и чуть не попал в полицейский участок. Даже свое самоубийство Оливейра обставляет как театральное действо: есть декорации из ниток и тазов с водой, зрители под
окном (сумасшедшие, директор цирка, Тревелеры), но состоится ли действие или в последнюю минуту главный актер передумает, остается невыясненным. Вообще, игра со смертью – характерный прием для постмодернистской эстетики. Кроме эпизода с Талитой,
рискующей жизнью, смерти Рокамадура и самоубийства Оливейры, в романе есть еще один имплицитный эпизод встречи со смертью – концерт пианистки Берт Трепа. Ее фамилия (Trepat) – омоним архаичного французского слова, означающего «смерть» (trepas). Своим
описанием пианистки Кортасар, по мнению И. Тертерян, подчеркивает ее сходство с «карнавальным чучелом смерти». К тому же, в числе произведений, которые «синтезировала» Берт Трепа, «Пляска смерти» Сен-Санса.
Двойничество – еще один способ литературной игры в романе. Одной из особенностей творчества Кортасара в целом является эта игра с дублированием, параллельными рядами персонажей и судеб. Исследователь А.М. Барренечеа предлагает следующую схему
проявлений темы двойников в романе:
- двойники, взаимодополняющие друг друга: Мага\Оливейра\, Тревелер\Оливейра;
- двойники-близнецы, представляющие собой разные проявления одного и того же явления: Мага\Пола\Талита, Оливейра\Морелли, Талита\Тревелер;
- двойники-пародии, гротескно деформирующие героев: Осип\Оливейра, Берт Трепа\Мага, Эммануэль\Мага.
Однако и сам роман имеет двойника – свою гипертекстовую копию. Это два романа в одном, состоящие из одних и тех же глав, и при этом абсолютно разные. Двойника имеет и автор. «Характерным порождением игрового принципа становится появление на страницах
текста собственно автора - творца (вернее, его двойника), нередко подчеркнуто отождествленного с биографическим автором», - замечает М. Н. Липовецкий [32]. Здесь перед нами демонстрация некоего философского принципа: автор - демиург, по традиционным
условиям игры находящийся за пределами текста и сам творящий игровую ситуацию, превращается в один из объектов игры, вовлеченных в процессы текстовой перекодировки и деиерархиезации. С помощью такого приема иронически подрывается сама
принципиальная возможность некой конечности, стабильности, все упорядочивающей и всеобъемлющей. И в этом смысле постмодернистская игра противостоит модернистской мифологии творчества, понимающей игру как форму осуществления максимальной, божественной
свободы автора - творца.
На композиционном уровне состояние игры передается посредством чередования текста от первого лица и от третьего. Причем, «первым лицом» (то есть повествователем) поочередно становится Оливейра, Мага, Рональд, Морелли и Талита. Традиционно рассказ
ведется либо от третьего лица (повествователь), либо от первого (лирический герой). Кортасар нарушает традицию, вводит полифоническое повествование, давая тем самым читателю возможность взглянуть на происходящее с нескольких сторон, так как одной точки
зрения, по его мнению, не достаточно для адекватного понимания ситуации.
Игровые элементы «Игры в классики» перемещаются в положение самодовлеющих. Экспериментальная и непредсказуемая стихия художественного текста максимально разбухает, гипертрофируется. В подобных случаях художественное произведение выходит за
рамки традиционного понимания литературы, оно живет на правах особого жизненного пространства, опровергая устоявшиеся приемы искусства. Многие современные исследователи литературы постмодернизма пишут о таком явлении как антироман –
художественном тексте, который потенциально может быть произведением с разными вариантами смысла, и автор которого пытается предоставить все главные права читателю, лишая текст дидактичности
и однозначности. По мнению ряда теоретиков постмодернизма, идеальный художественный текст должен быть именно такого рода: текст, представляющий собой роман, который пишется сам. В начале XX века подобные опыты, когда художественное
сознание оказывается направленным на самое себя, становятся систематическими. Художники выступают с произведениями, которым сопутствует теоретическая программа, определенный эстетический манифест. Х. Кортасар создал произведение, одновременно являющееся
и эстетическим манифестом и его иллюстрацией
5. Языковой строй романа.
Западные классификаторы философских направлений относят постструктурализм, а вслед за ним и постмодернизм, к общему течению «критики языка» (la critique du langage), в котором соединяются традиции, идущие от Г. Фреге (Л. Витгенштейн, Р. Карнап, Дж.
Остин, У. В. О. Куайн), с одной стороны, и от Ф. Ницше и М. Хайдеггера (М. Фуко, Ж. Деррида) – с другой. Если классическая философия в основном занималась проблемой познания, т. е. отношениями между мышлением и вещественным миром, то практически вся
западная новейшая философия переживает своеобразный «поворот к языку» (a linguistic turn), поставив в центр внимания проблему языка, и поэтому вопросы познания и смысла приобретают у них чисто языковой характер. Главная проблема состоит в том, что
рухнула старая миметическая вера в референциальный язык, т. е. в язык, способный правдиво и достоверно передавать и воспроизводить действительность. В связи с этим появилась потребность в новом языке, отвечающем измененным условиям.
О своем романе «Игра в классики» Кортасар говорил: «Тут прямая атака на язык в той мере, в какой – об этом прямо сказано во многих местах книги – язык обманывает нас практически на каждом слове…» [9]. Помимо критики языка самими героями романа (беседы
о языке в Клубе Змеи), «атака на язык» предпринимается по следующим направлениям:
1) Пастишизация19 и симультанность языка
Пастишизация основана на смешении, ироническом переосмыслении и имитации разнообразных манер и стилей. Ч. Дженкс определяет сущность постмодернизма как «парадоксальный дуализм, или двойное кодирование, указание на который содержится в самом гибридном
названии «постмодернизм» [16]. Под «двойным кодированием» Дженкс понимает присущее постмодернизму постоянное пародийное сопоставление двух (или более) «текстуальных миров», то есть различных способов семиотического кодирования эстетических систем, под
которыми следует понимать художественные стили. Рассматриваемый в таком плане постмодернизм выступает одновременно и как продолжение практики модернизма, и как его преодоление, поскольку он «иронически преодолевает» стилистику своего предшественника.
Язык постмодернистского искусства «сдвоен» с языком науки, философии, массовой культуры и т.д., причем каждый из языков выступает как равноправный. В этом случае говорят о постмодернистском плюрализме стилей и методов. Кроме того, постмодернистская
пастишизация предусматривает переосмысление смешиваемых жанров в ироническом, пародийном ключе.
«Игра в классики» характеризуется сознательной установкой на ироническое сопоставление различных литературных стилей, жанровых форм и художественных течений, при этом иронический модус постмодернистского пастиша в первую очередь определяется
негативным пафосом, направленным против иллюзии лингвистической нормы. В романе использованы различные жанровые формы (подробно об этом см. выше) – философские эссе сменяются ироничными сообщениями «Таймс» о сломанной ноге вдовствующей герцогини Грэфтон,
интеллектуальные дискурсы – отрывками из модных джазовых композиций. Чаще всего такие на первый взгляд неуместные главы носят снижающий характер, подрывают серьезный тон повествования. В романе пастиш выступает одновременно и как «изнашивание
стилистической маски» (то есть в традиционной функции пародии), и как нейтральная практика стилистической мимикрии, в которой уже нет скрытого мотива пародии.
2) Словообразование.
Критика языка у Кортасара перерастает в прокламацию нового языка. Некоторые критики после выхода романа поспешно объявили о «языковой революции», начало которой якобы положил Кортасар. Опыт создания нового языка сделан в главе 68 «Игры в классики» -
она представляет собой описание любовной сцены через слова, изобретенные Магой и Оливейрой. Характерно, что по «Таблице для руководства» глава 68 идет после главы 93, в которой Оливейра размышляет о бессилии и тщете языка перед чувством, о невыразимом,
не желающем быть выраженным. Глава 68 иллюстрирует размышления Оливейры, представляя собой набор с трудом различимых слов языка глиглико – так назвала свое изобретение Мага. Но эксперимент по созданию нового языка доказал невозможность разрушения
старого. Вся изобретательность героев не отменяет законов испанского языка, а наоборот, следует этим законам: новые слова строятся строго по правилам словообразования.
3) Языковые метафоры.
Метафоры Кортасара рождаются на художественных, литературных, библейских, философских и прочих ассоциациях и поэтому нуждаются в интерпретации.
Так, по наблюдениям И. Тертерян [41], главный герой не случайно носит фамилию Оливейра – здесь очевидна ассоциация со словом «оливы». Это новозаветная ассоциация: «гора олив», то есть Гефсиманский сад, – подчеркивает душевные страдания героя; он
добывает истину, терзаясь и отчаиваясь. Другая ассоциация, которую предлагает Андреев в примечаниях к роману, – оливковая ветвь мира, мудрости и славы. Имя героя – Орасио – испанская форма имени Гораций. Это – напоминание и о римском поэте, и о
персонаже из «Гамлета».
Также неслучайна фамилия пианистки Берт Трепа, омонимичная архаичному французскому названию смерти (подробно об этом см. выше).
Прозвище Лусии – Мага – есть не что иное, как женский род от слова «маг». Тема сверхъестественного, иррационального, божественного (Мага соотносится с образом Неба) проходит через весь роман, переплетаясь с буддийской тематикой и библейскими
аллюзиями.
Сына Маги зовут Рокамадур – так называется городок в юго-западной части Франции, место паломничества, связанное с культом Девы Марии.
«Фамильные метафоры» хорошо демонстрируют поэтически-ассоциативный метод, каким пользовался Кортасар при работе над романом. Кортасаровские символы – точки соприкосновения быта и философии, узелки, которыми связаны обе нити повествования.
Расширение контекста.
Поскольку постмодернистский текст не имеет границ, его интерес к контексту постоянно растет. Иногда даже трудно понять, где кончается «произведение» и начинается «ситуация». Снимается деление жестов на бытовые и творческие, искусство и жизнь больше
не соотносятся по принципу сакрального и профанного, также как не различаются массовое и элитарное. В связи с таким расширением контекста, все большую популярность приобретают «второстепенные жанры»: дневники, словари, примечания, комментарии. В романе
«Игра в классики» около трети глав представляют собой комментарий
Оливейры к записям Морелли. Повествование выходит за рамки одного сюжета, включает в себя описание элементов, не имеющих прямого отношения к сюжету: карточки для клубной картотеки, частного письма с орфографическими ошибками, текстов целых песен и
стихотворений, отчета о совершенной казни, исторического трактата, статьи из садоводческого альманаха…
Периферийные явления встают в один ряд с центральными. Но нет смысла говорить о выступлении периферии на первый план, когда разобрана вся иерархия. Роль контекста теперь так велика, что в произведение могут включаться отношения автора и публики,
автора и художественного пространства, публики и реальной действительности. Постепенно пропадает способность отличать «реальность» и «нереальность» и у авторов и у читателей. По замечанию В. Курицына [27], постмодернизм, начав стирать границы между
реальностью и чудом «на письме», пришел к стиранию этих границ «в жизни».
Заключение.
Роман «Игра в классики» – пример постмодернистского текста:
- обладает незамкнутой структурой – текст романа открыт в бесконечность означающего, характеризуется смысловой множественностью и многолинейностью трактовок;
- текст романа принципиально вторичен – он создан из множества цитат, отсылок, реминисценций, которые, проходя сквозь текст, создают настоящую стереофонию, многоголосицу;
- текст динамичен, благодаря постоянному диалогу с читателем и непрерывному процессу порождения смыслов, число которых не ограничено;
- текст не имеет автора в традиционном смысле, вся полнота власти над текстом оказывается в руках читателя, роль которого активизируется;
- текст становится объектом не потребления, а наслаждения; игровое начало выходит на первый план, в игру вовлекается и читатель;
- текст ориентируется на сокращение (или полное устранение) дистанции между письмом и чтением, объединяя чтение и письмо в единую знаковую деятельность.
Х. Кортасар в своем романе пытается выйти за пределы традиционного литературного произведения. Он ставит целью не только создание эстетического феномена, произведения словесного искусства. Но и провоцирует рождение нового читателя,
читателя-единомышленника, не пассивного, а творчески деятельного, отвергающего тотальность «окончательного» смысла, способного приобщиться к множественности культурных языков, равноправных между собой. Кортасар указывает своему читателю путь преодоления
ангажированности литературы, линейности мышления и стандартифицированности. Главная авторская установка в формировании плюралистического, многомерного взгляда на мир, воспринимаемый во всей полноте его множественных смыслов.
1 Мнения относительно времени возникновения постмодернизма разнятся. Большинство исследователей называют середину 50-х годов временем перехода модернизма в постмодернизм, а 60-е годы – временем его
расцвета.
2 Ф.Ницше в своем труде «Рождение трагедии из духа музыки» (1872) выделяет ряд культурных эпох, чередование которых определяется преобладанием дионисийского (иррационального, темного) или апполоновского
(рационального, светлого) начал. Разворачивая применительно к этому тезису цепочку, получаем: …Архаика – Греческая классика – Эллинизм – Греко-римская классика – Упадок позднего Рима – Искусство «темных веков» - Готика – Возрождение – Барокко –
Классицизм – Романтизм – Реализм – Модернизм – Постмодернизм…
3 Грамматология - постструктуралистическая наука о письме как знаковой системе взаимной коммуникации людей и о роли письма в культуре.
4 Метафизика – философское учение об общих, отвлеченных от конкретного существования вещей и людей, принципах, формах и качествах бытия.
5 Само слово «деконструкция» (ср. «деструкция») – сочетает разрушительное «де» и созидательное «кон».
6 Клод Леви-Стросс (р.1908) – французский этнолог-структуралист
7 Лесама Лима Хосе (1910 – 1976) – кубинский поэт, прозаик
8 Анаис Нин (1903-1977) – американская писательница
9 Дерроу Кларенс (1857-1938) – американский юрист
10 Эжен Ионеско (1909-1994) и Сэмюэль Беккет (1906-1989)– писатели-абсурдисты
11 Арним Людвиг Ахим фон (1781-1831) – немецкий писатель-романтик
12 Берг Альбан (1885-1935) – австрийский композитор-экспрессионист
13 Мандала – в буддизме графическое изображение схемы вселенной, представляющее иерархическую расстановку в мироздании всех буддийских святых.
15 Ризома (особая грибница, являющаяся корнем самой себя)– по терминологии Ф. Гваттари и Ж. Делеза, это новый тип культуры, воплощающий нелинейный способ эстетических связей.
16 По Кристевой претекст – текст, к которому отсылают; подтекст – текст, который анализируется на предмет отсылок; интертекст – пространство пересечения предтекста и подтекста.
17 Если можно вообще говорить об «основном повествовании» в тексте, наполовину состоящем из отсылок к другим текстам. Вопрос центральности и маргинальности явлений остается не решенным.
18 В работе М. Фуко «Что такое автор?» звучит идея не смерти, а новой функции автора: он перестает быть творцом, а становится некой меняющейся функцией, не претендующей на фиксированность.
19 Пастиш – (итал. рasticcio) – опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация
|
|